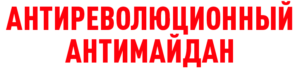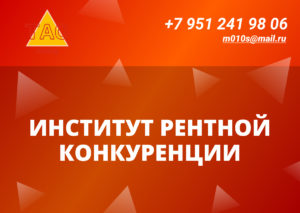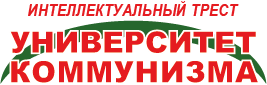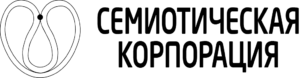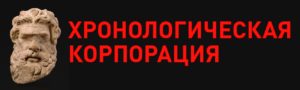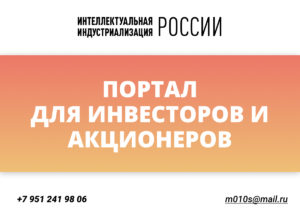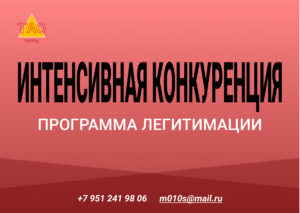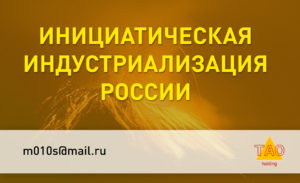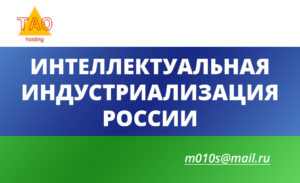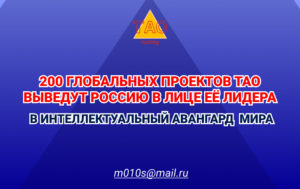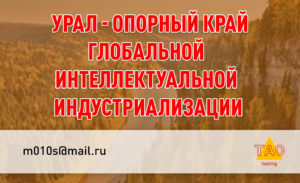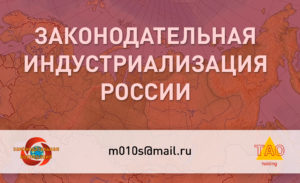ИН-ТЕЛЛ-И-ГЕН-ЦИ-Я

ИН-ТЕЛЛ-И-ГЕН-ЦИ-Я
Роман
Трифонову Юрию Валентиновичу,
Лауреату Сталинской премии
в память о наших встречах
посвящаю.
ЧАСТЬ I
РУКОПИСИ НЕ ПАХНУТ
1. Рукопись
Пожелтевшие от времени листы неизъяснимо пахли. То ли аромат подземного царства, то ли дыхание высохших чернил, то ли снотворный запах тления. Крепов тихо засмеялся. Он их нашёл! А думали, не найдёт. Простаки!
Это были давно утраченные архивные листы Поэта. Они поступили на хранение в целой стопе папок от недавно умершего ценителя. Известные всему миру строки – вот они, написанные Его рукой. Знал ли, понимал ли Он, что писал бессмертные слова, которые затем миллионами слов войдут в каждый дом, станут его славой и гордостью. Что Он чувствовал, создавая новый мир новых образов, новых реальностей, в которых жить слаще, чем в любых других?
Крепов, внутренне трепеща, вздохнул и перебрал листы ещё раз. Их ещё никто не касался из коллег. Он первый. Это сильнее, чем первая любовь. Теперь нужно было спрятать так, чтобы никто не наткнулся на них. При этом нужно сделать ксерокопию.
Нет, наверное, их лучше оставить на месте, где их никто сто лет не смог найти.
Он уложил всё обратно, упаковал и вышел из архива. Напоследок мило сощурившись, наклонившись низко-низко к уху архивной тётушки, взяв её за руку, слегка помяв мякоть её ладоней, он прошептал слова благодарности и выскользнул из массивных дверей. В груди билось не сердце, но отбойный молоток пробивал грудную клетку. Только бы никто не заметил ничего подозрительного! Он мягко скользил по коридорчикам Института, стараясь обходить площадки и зеркала. Только бы не встретить Лигачёва, иначе восторг, который не могут спрятать его глаза, выдадут его, и всё рухнет. Лигачёв знал его давно и вил из него верёвки своим взглядом с паволокой. Крепов фактически работал чернорабочим у этого помещика от науки, как он втайне его называл. Лигачёв, несмотря на его заслуги, вставал на пути его докторской, не давал заработать больше ничтожной зарплаты.
И вот теперь изменится всё!
Крепов по коридорчикам спустился вниз. Там в глубине подвалов было важное место, которым заведовал человек, с которым не было общего языка. Звали его Целовальников, и заведовал он тиражным центром института – вожделенным хлебом и вином для всякого учёного. Там на огромном ксероксе и ротапринте тиражировались имена.
Целовальников встретил его обычным равнодушным выражением лица. Чем жил этот человек без возраста было для Крепова загадкой, но сейчас нужно было сделать важнейшее дело. Нужно было у Целовальникова снять копию находок.
Через час после тонкой беседы с Целовальниковым он выбежал из подвала и – о несчастье! – на самом выходе из Института столкнулся с Лигачёвым! Тот протянул ласковую руку.
– А, Виталий Иванович, добрый вечер!
Лигачёв, как всегда, был изящно одет. Для советских учёных он был самый нетипичный. Он был всегда брит, ласков, трезв, костюм носил заморских покроев и руку подавал всегда первым. Что доктору, что кандидату. И это при том, что и доктор, и кандидат, понимали, что он им, точнее, они ему, не ровня. Академик, которого называли совестью перестройки, солью нации, подчёркивал неравенство пиететом к простым сотрудникам института. Такой парадокс.
Крепов внутренне сжался, стараясь не выдать свой бурный восторг от находки и злорадства от того, что эта находка пройдёт мимо Лигачёва. Тот дружески заглядывал ему в глаза, но Крепов не выдал себя. «Знаю все эти демократические трюки – со всеми дружить, никого не делать врагами. Руку жать жмёт, а докторскую пустить вперёд – ещё рано!» Это нежелание иметь врагов оборачивается тем, что все враги становятся тайными. Но Лигачёв был уверен, он об этом частенько повторял, что нужно быть толерантными во всём и всегда, тогда не будет ни тайных, ни явных врагов. Крепов внутренне улыбнулся: «Что ты скажешь, толерантный академик, когда получишь от меня из-за границы ксерокопию найденной рукописи с приложенной фотографией – меня на фоне моей морской яхты? Рукописи, которая от тебя ушла, ускользнула, и ты её даже не потрогал, не понюхал и не объявил учёному миру. Той, которая находится сейчас в сорока метрах через три стены».
Расставшись с Лигачёвым, он выскочил на набережную, бросился к телефонной будке, набрал номер и, едва услышав ответ, выпалил в трубку:
– Всё на месте. Я готов.
Приближаясь к памятнику Екатерины, Крепов начал волноваться. Все мысли сжались в один кулак: «Как он меня будет обводить вокруг пальца?» Крепов считал себя тонким знатоком человеческих душ и был убеждён, что его будет обманывать ловкий человечек, торговавший на чёрном рынке антиквариатом и раритетами. А Крепов не даст себя обмануть! Он тонко назначил время встречи на вечер. Место определил у памятника Екатерины Великой, потому что рядом с Щедринской библиотекой встреча двух интеллигентных людей не вызовет подозрения. Он здесь свой, сотни встреч назначались здесь ещё с аспирантских времен.
Время подходило, напряжение усиливалось. Он начал подрагивать – весенние сквозняки проникали и начли пощекотывать. Он пытался угадать, кто из идущих в его сторону может оказаться тем, кто вырвет его из цепких лап умирающей империи. Чёрные маклеры вызывали у него презрение, но других путей не было. Какую же цену назвать? – Вопрос, который его мучил ещё больше. Он знал, что в его руки попала ценность, но насколько она «потянет», он не знал. Хватит ли ему денег, чтобы поставить гордый крест на своей убогой жизни в «этой стране»?
Со стороны Невского проспекта показался человечек. Он двигался походкой, которая сразу насторожила Крепова. Неровная, с западанием левой ноги. Одет он был самым фривольным образом в несерьёзную курточку и вызывающую ярко-зелёную кепочку. В одной руке был жёваный портфельчик, в другой длинный нелепый зонт. В довершение всего его шею обвивал желтый шарф невыносимого фасона. «Только бы не он», – подумал Крепов, внутренне сжимаясь от мысли, что ему придётся из общества рафинированных интеллектуалов перейти в общество неровных людей и грубых стяжателей.
– Виталий Иванович? – Услышал он голос, напоминающий писк мыши и скрежет ножа по стеклу одновременно. Увы, это был тот, кого он ждал.
Крепов поднялся и огляделся. Его аккуратный приятный вид не вязался с нелепым видом собеседника. Он понял, что с конспирацией не угадал: именно здесь, где его знает каждая собака, он попал в глупую ситуацию.
Крепов кивнул с неохотой, с нескрываемым неудовольствием кивнул. Фривольный господинчик весело представился.
– Меня зовут Кавкин Сергей Данилович. Присядем? – И фривольний господинчик без церемоний упал на скамью. Крепов кивнул, пытаясь подыскать нужную манеру поведения, и опустился рядом.
– Предлагаю сразу приступить к делу. Итак, вы располагаете, как я понял по копии, оригиналом «Парусов»?
Крепов кивнул, подчеркивая свою сдержанность. Кавкин немного удивился.
– Вас что-то беспокоит? Только не смотрите на мое одеяние. Уверяю вас, чтобы мало кто заподозрил во мне серьёзного человека, я должен одеваться несерьёзным образом. Вы должны это понять.
Крепов пожал плечами и снова кивнул.
– Как знаете. Вы получили по моему поводу рекомендации?
– Да.
– Что же вас беспокоит?
– Я рассчитывал на …
– … что-то другое? Понятно. Если я вас не устраиваю, я могу удалиться.
– Давайте продолжим.
– Вопрос я задал.
– Да, располагаю.
– В хорошем состоянии?
– Да.
– В наши руки рукопись может попасть через…
– Неделю.
– Теперь о цене. Наши оценщики вам предлагают десять тысяч долларов.
Крепов онемел и сердце его бурно забилось. Много это или мало? Сколько требовать? Показалось, что гора денег. Но он не подал виду и тихо сказал: «Через неделю я принесу ксерокопию. Только встретимся в Таврическом саду, около Ботанического сада», – и поднялся. Его собеседник предупредительно вскочил и пожал протянутую руку. «Мда, много в нём ничтожности», – подумалось вскользь. Крепов с достоинством кивнул, и они разошлись.
Толкаясь на Невском, Крепов не мог понять, продешевил он или наоборот попал на золотую жилу. Десять тысяч долларов! Неужели всего три листочка с неровными небрежно перечёркнутыми строчками могут столько стоить? Конечно, представление о стоимости раритетов было, но когда это коснулось тебя самого – не верилось. Неужели на Западе столь высоко ценят Поэта, пусть русского классика, которого они знают только в переводе? А может быть, напротив – слишком низко? Он вспотел. Продешевил или нет?
Вдруг он остановился, поняв, что не может продвинуться дальше. Перед ним была стена людей. Они стояли в огромной очереди, которая шла до Аничкова моста. «Что тут происходит?» – спросил он у мужчины с суровым лицом. Тот скривил лицо: «Курево». Крепов осмотрелся. Гигантская очередь текла в узенький проход, над которым висела табличка «Табак». Он усмехнулся. Это ведь нужно так себя довести, чтобы в центре города стоять километр за сомнительным зельем? Вскоре на глаза попался шапочный знакомый из университета, с которым он часто встречался на защитах: тот стоял напротив парня с банкой окурков в руке и вглядывался в неё, пристально рассматривая окурки. Крепов остановился донаблюдать за событиями. Шапочный знакомый стал усиленно торговаться, после чего парень убрал банку. Тот крикнул: «Беру!» – и вынул деньги, банка перешла в его руки. Шапочный знакомый тут же порылся в окурках, достал один и торопливо закурил, пожиная взгляды завистников в очереди. Он остался в очереди, покуривая грязный окурок, гордо наблюдая, как за дымком тянутся носы соседей. Крепову захотелось расхохотаться, но, окинув взглядом очередь мрачных обречённых, он поосторожничал и пошёл дальше. Уже у Аничкова моста, прямо у коня Клодта, он спросил: «Кто последний?» – Ему ответили. – «А сколько дают пачек?» – «Две в одни руки». Крепов посмотрел на коней Клодта снизу вверх, усмехнулся, махнул рукой и двинулся дальше. «На что рассчитывает страна, в которой сотни приличных людей в центре своей культурной столицы, забыв обо всём, забыв и честь и приличия, жадно стоят за пачкой плохих сигарет? Это больные люди, которым нужен лепрозорий, а не шедевры Ленинграда».
В это время Кавкин спешил навстречу с человеком, ради минуты присутствия при котором он готов был на всё. Это был для него мир рая.
Шторы среди белого дня были приспущены, и старую ленинградскую квартиру окутывала блаженная полутьма. Соединенная с запахами старины, отблесками неземных подсвечников, ликами с картин, для которых не было места на стенах, статуэтками, создававшими эффект подземного царства с загадочными троллями и духами растений. Даже скрип половиц не вызывал раздражения, он был в тон. Чувство нездешности, оторванности даже от города так волновали, что с каждым приходом все меньше отсюда хотелось уходить.
Кавкин обожал бывать в этой квартире, погружаться в грёзы былого. Когда он принимал со своими недалёкими приятелями «освежающее и веселящее», именно этот дом, эту квартиру он представлял своей, именно это огромное кресло из кожи далёких времён, стол, сделанный неизвестным мастером, он делал образцом своего вожделения. Оставалось стать таким же мастером изумительных комбинаций, каким был хозяин квартиры Корен Иван Григорьевич, главное художественное произведение этой квартиры.
Сегодня тот был в изысканном турецком халате и в тонких плетёных тапочках. Встретил жестом и закурил, не предлагая Кавкину, сигару. Он наблюдал за Кавкиным, совершенно этого не скрывая. От этого было не по себе. Окутав себя несравненным запахом, который для Кавкина была слаще любых известных ему сладостей, хозяин заговорил.
Иван Григорьевич был человек лет шестидесяти, говорят, из очень весомых «бывших», который «не терял времени зря». Кавкин особо не любопытствовал, что значат эти загадочные фразы, поскольку ещё до встречи с ним ему намекнули, что каждый лишний вопрос может повлечь лишний для него ответ. Лицо хозяина квартиры выражало спокойствие и полную уверенность в своём положении. Видно, что ни огромная квартира, забитая антиквариатом, ни то, что он в возрасте, не обременяли его чувства переживаниями.
– Рассказывайте.
Кавкин, стараясь не торопиться, быть весомым, как хозяин, в каждом слове, немного волнуясь, рассказывал. Это было его первое дело, его нельзя было провалить.
– Всё сделал, как Вы указали. Деньги, пять тысяч, я передал. Он очень заволновался. Я сказал, что деньги будут поступать порциями. Для этого нужно время. Как вы сказали, я озвучил предложение об интересующей вас рукописи. Назвал цену. Он испугался, закричал, что она во всех архивных каталогах, что это крайне опасно.
Возникла пауза. Иван Григорьевич подержал сигару над пепельницей и после того, как пепел ссыпался на дно золоченого произведения искусства, спросил.
– Опасно. И что?
– Он отказался.
– Так и сказал?
Кавкин замялся.
– Так не сказал, но…
– Вот видите, он не сказал, что он против того, чтобы предоставить нам эту рукопись.
– Так не сказал, но упорно, несколько раз спросил о деньгах, когда будет следующая сумма.
– Вот видите. Он не против.
– Но он постоянно напоминает мне о деньгах.
– Пообещайте ему триста. За новое предложение.
Кавкин помялся.
– Говорите.
– Мне кажется, он не пойдет на это.
Иван Григорьевич снова обратился к пепельнице.
– Но на «Паруса» он пошёл.
– Да, но это была его находка, фактически неучтённая, потерянная, о существовании которой знал только он сам.
Корен позвонил в звоночек. Таких сладких, неземных переливов Кавкин ещё не слышал. Вошла девушка завидной, беззаботно неприкрытой внешности, неся на серебряном (в этом Кавкин почему-то не сомневался) подносике две чашечки кофе. Запах настоящего кофе и без самого кофе объял его настолько, что оставалось только осесть по жесту хозяина в плетёное удобное креслице и замереть от блаженства. Если бы не тревожное предчувствие, он бы согласился умереть от наслаждения. Девушка коснулась его руки, глазами спрашивая, нужно ли чего ещё. Он, теряя самообладание, отрицательно замотал головой. Избыточность эмоций была замечена Кореном. Он улыбнулся, еле заметным жестом отослав девушку.
– Согласитесь, друг мой, что если человек сделал один шаг, не исключено, что он сделает и второй. Не так ли?
Кавкин кивнул.
– Так сделайте ему более убедительно предложение сделать этот благородный шаг.
Корен своими руками протянул Кавкину коробку с сигарами. Взгляды их встретились. Корен улыбнулся, а Кавкин, чувствуя прилив уверенности, кивнул. Он понял, что угроза потерять отношения с этим величавым человеком, сама возможность быть отлученным от этого дома страшнее любых других неприятностей.