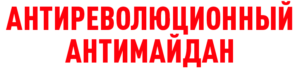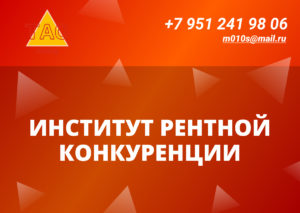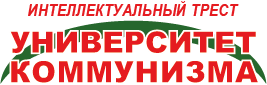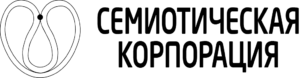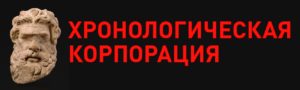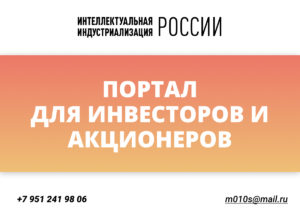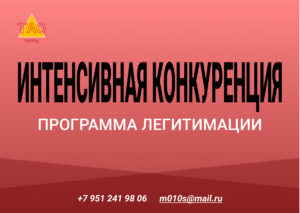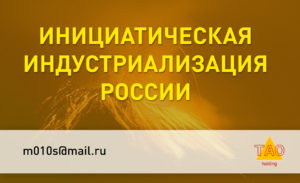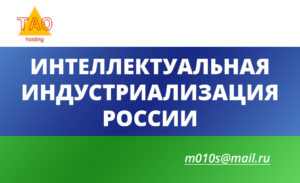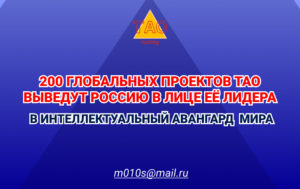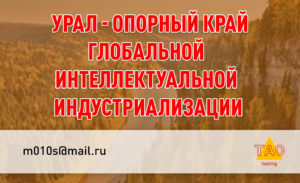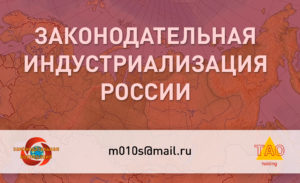С КЕМ СЕГОДНЯ ТРИФОНОВ

По отношению к многим властителям умов, ушедшим до переворота 1991 года, почитатели задают вопрос, а с кем бы он был сегодня? Иные авторы вызывают широкую дискуссию, к примеру, Высоцкий, другие меньше, но глубже. Меня этот вопрос волновал и волнует в отношении Трифонова, поскольку он для меня был и остался не только художественным авторитетом, но и интеллектуальным. А встреча с ним произвела глубинное воздействие на всю мою жизнь, поэтому вопрос, по какие стороны баррикад мы бы были, для меня не праздный. А то, что на семидесятые и начало 80-х Трифонов был властителем умов значительной части интеллигенции, это факт.
Подавляющее число авторов считают, что Трифонов несомненно бы занял либеральную сторону, поскольку его произведения всегда попахивали антисоветчинкой и оппозиционностью. А поскольку антисоветская позиция сегодня мягко переплавилась в антироссийкую, а часто и русофобскую, то его записывают сюда без апелляций. В дополнение напоминают о его происхождении, забывая, что по другой части, по отцу, он казак и достаточно родовитый. А то, что судьба отца была небезразлична всю жизнь, несомненно. Об этом говорит роман «Старик», где казачий вопрос связан с судьбой отца. И тяжелейший вопрос, впервые вставший в русской литературе – вопрос о казачьем сепаратизме – это тоже вопрос о судье отца. Уже тогда выбор у казачества был страшный: либо красновский сепаратизм, либо большевистский империализм троцкого извода (на тот момент). Ведь большевики в те времена, особенно в гражданскую войну вплоть до польского провала, были представлены Троцким, выдвиженцем которого Трифонов-старший и был, войдя с его подачи, на уровень титульной всесоюзной власти, о чём красноречиво говорила его поселение в том самом Доме на набережной. Поэтому казачий вопрос — тяжелейший вопрос для писателя. Он его поставил и ответа не нашёл, приняв главное – судьбу отца, ставшего красным командиром и оставившим открытым вопрос: оправдана ли гибель отца в тридцатые за прошлую связь с Троцким? И вообще, что было лучше для казачества – Краснов или Троцкий – сепаратист или имперец? Потому что империю начал строить не Сталин, а Троцкий. Не говорим о целях, но по факту – создавая чисто имперскую армию. Трифонов почти с момента создания детища Троцкого РВС (Военно-революционного совета) постоянно был в его структуре – и в Перми, и на Кавказе, и на Дону, куда его посылали. Причём Трифонов-старший, который с 9 лет в принципе был далёк от казачества, приобщившись к рабочему классу, выступил, тем не менее, в защиту казачества от репрессий. Трифонов не мог быть антисоветским, поскольку эту власть делал его отец. Антисталинистом – да, но не антисоветчиком. Знаком этого являются беспрепятственный выезд за рубеж, особенно в Германию, куда его постоянно приглашал Бёлль. Многие считают вершиной творчества «Дом на набережной», но без сомнения по масштабу поднятых проблем и актуальности вершиной является «Старик». При этом «Дом» по глубине анализа не уступает «Старику», в нём больше ответов, чем в «Старике», но масштаб охвата и эпоха глазами только подростков это делает «Дом» более камерной и менее эпохальной вещью. При этом «Дом на набережной» — несомненный приговор сталинизму, но без проклятий в либеральном духе. В любом случае разоблачение, даже самое мастерское, ниже по идейному титулу, нежели постановка вечной проблемы – как жить человеку при столкновении великого замысла и маленького, часто жалкого, озабоченного своими мелкими страстями человека? Мигулин, казачий лидер-большевик, в романе проходит между мировой революцией Троцкого и любимой женщиной Асей, замешанными на кастовой ограниченности казачества:1. «… телеграмма от РВС фронта о назначении комиссара (Шигонцева — СНМ) пришла накануне» (Трифонов Ю.В. Старик, Другая жизнь, М. Советский писатель, 1980, с. 25)2. «Мигулин вырвал Асино тело из моих рук так властно, с грубой поспешностью, будто отнимал с в о ё …» (там же, с. 37). 3. Мигулин: «Граждание станичники! Что для казаков главное было, есть и будет … Воля, казаки!» (там же, с. 44) И вот итог – речь Мигулина на суде: «… Вся жизнь моя была отдана революции, а она посадила тебя в эту тюрьму, всю жизнь боролся за свободу, и в результате лишен этой свободы. В этом каменном мешке я, быть может, впервые свободно задумался …» (там же, с.140) Мигулин официально «списан» с Миронова, но отца в Мигулине тоже много, потому что кастовая принадлежность и формула судьбы Мигулина не давала покоя Трифонову-старшему всю жизнь – а Мигулин (Миронов) как носитель казачьего сепаратизма был, несомненно, близок по кастовым интересам казачества, которое советская империя просто дезувуировала. И так как в романе был показана фатальность поражения – и внутренняя и внешняя — сепаратного проекта Миронова, а имперская проекция осталась, то выбор в титульном романе у Трифонова налицо. При всех сомнениях.

Усложнение понимания судьбы отца можно проследить от ранней повести «Отблеск костра», где отец реабилитрован именно как революционер, к «Старику», где реабилитация отошла на второй план в силу её частности – первый вопрос стал о судьбе революции, создавшей империю и поглотившей своих творцов. Ведь отец был не просто революционером, а самым что ни на есть исконным – участником взятия Зимнего дворца.Другой тестовый материал для размышления роман «Нетерпение» о Желябове и подготовке убийства Александра II. Для советского времени это роман «сомневающийся» в эффективности террора, а значит революционного процесса. Само название говорит о внутренней консервативной установке, потому что характеризует героев как неготовых к государственной деятельности, если они могут мыслить только категориями террора. Тогда был возможен такой парадокс: антисоветизм, но консервативный, не принимающий революционно-террористической формы установления власти.Но у Трифонова не было и здесь одномерности. Он писал о настоящих подвижниках, героях, но сам героизм, его приложение оставалось под вопросом. Можно ли считать героями террористов, которые присвоили себе право бороться за народное счастье? Ведь все признаки героизма налицо – но является ли героической цель? Наконец «Студенты». Сталинская премия. Он стеснялся романа, но из песни, думается, слова выкинуть не мог. «Студенты» проложили дорогу в большую литературу, сделав моментально имя. Я, прочитав роман, долго думал, что Сталин увидел в этом романе (Сталин, как известно, не давал свои именные премии по рекомендации – он всё читал)? А увидел послевоенный бытовой молодёжный роман с динамикой, живыми типажами, мерой автобиографичности и идеей зовущего будущего: «— Но не всякая, друзья, не всякая! А та радость, которая маячит впереди, зовет, светится путеводной звездой. Которая трудно достижима, а все-таки, черт возьми, достижима!— Макаренко, кажется, называл это «завтрашней радостью», — сказал Вадим.
— Я вот и хочу сказать о Макаренко! — подхватил Андрей обрадованно. — Ребята, какой все-таки замечательный это был человек! Как много верного он угадал, как глубоко понял самую суть нашего общего дела — воспитания! Помните, он говорил, что надо воспитывать в человеке перспективные пути, по которым располагается его завтрашняя радость? Эх, как здорово сказано… Конечно, в этом ключ коммунистического воспитания — воспитать в человеке веру в его завтрашнюю живую, никакую не загробную, а самую земную, полновесную радость. И человек, вооруженный этой верой, непобедим, всесилен. Между прочим, я решил написать о Макаренко работу для НСО. И для себя. Полезная штука его статьи, их надо читать и перечитывать.
— А вы знаете, ребята, что меня беспокоит? — сказал Вадим, усмехнувшись. — У Макаренко где-то сказано, что настоящий воспитатель должен хорошо владеть мимикой, управлять своим настроением, быть то сердитым, то веселым — смотря по надобности. В общем, должен быть немного актером. Я вот, кажется, таким талантом не обладаю…» (Интернет-публикация, с. 130)
Сталин увидел в первую очередь мирное жизнеутверждение – не через войну, не через победу в ней, как было повально представлено в послевоенной литературе молодыми авторами, вернувшимися с войны, а в новом, бытовом, преодолении, увидел молодой, но умный, задор, отметив, конечно, читательскую перспективу – роман будет читаться. И если вспомнить, что роман был выделен в момент борьбы с декадансом Ахматовой и Зощенко, то отметить оптимистические тенденции в молодой литературе было необходимо для социально-творческих ориентиров. Что бы ни говорили, политико-пропагандистский вкус у Сталина был.
Это можно почувствовать в сравнении – с повестью, открыто полемизирующей со «Студентами», аксёновскими «Коллегами» (1959 г.), когда молодые оптимистические студенты вступают на путь … разочарований.
«Обмен», с которого началось моё увлечение, а потом и привязанность, стоит особняком, сделав из Трифонова автора «городской», даже уже — «московской» — повести. Да, это был переломный момент в его творчестве, — мало замеченными остались его «Отблеск костра», «Утоление жажды», многие рассказы. «Обмен» вывел его в писатели союзного масштаба. Считается, что эта повесть стала тихим приговором брежневскому времени, но это преувеличение. Но то, что в повести показывалось разложение московской интеллектуальной элиты, неспособной уже к решительности и твёрдости позиций, меняющей свои принципы на жильё, это несомненно.
Но разложение элиты не разложение страны. Это разные вещи. И у Трифонова было переживания больше — а как страна без интеллигенции выживет? – чем злорадства. Между формулами «так нельзя» и «так вам и надо» — большое смысловое расстояние, которое надо в повести увидеть.
Трифонов для меня совершенно не вяжется с либеральным миром: он не разделял антисоветского напора Твардовского, хотя и жил с ним через забор на Красной Пахре, не входил в клан Бакланова, несмотря на период дружбы. И если не было влечения к клану советских патриотов, то потому что слишком глубоко понимал внутренний раскол советской системы. И если можно было бы определить его место, а значит и судьбу в послесоветское время, я бы определил его позицию и не с кем-то, и не между, а над. Так утверждать мне позволяет то, что лишь его, в моём понимании, три вещи переходят из разряда отечественной в разряд мировой классики и должны войти в программы по литературе: «Обмен», «Дом на набережной» и «Старик». И по художественным достоинствам, и по актуальности. Это самое большое количество, чем у какого-либо отечественного послевоенного автора.
На первой же встрече он сказал фразу, которую я запомнил: много интриг … мало литературы. Не знаю, какой и где поставить знак препинания в этой фразе, но мне понятно, что посвятив себя литературе, уйдя в неё душевными и умственными корнями, он остался в России – на почве этих корней.
Поэтому, увы, Трифонов не достанется кланам и пристрастиям — потому что он «достался» России и русской литературе.
«Литературная Россия» №42. 27 ноября 2015