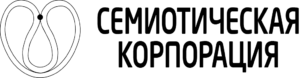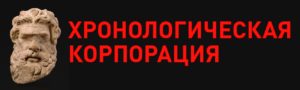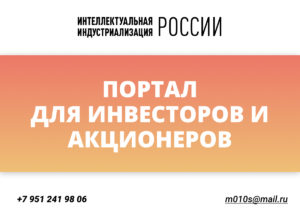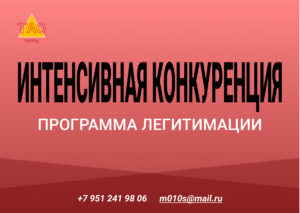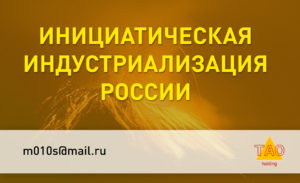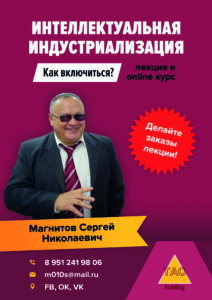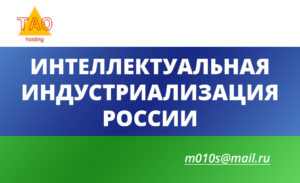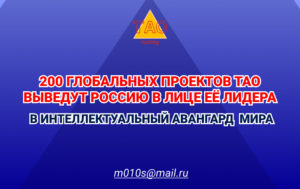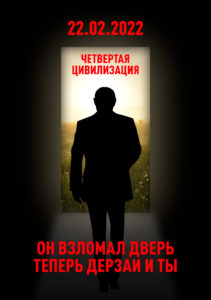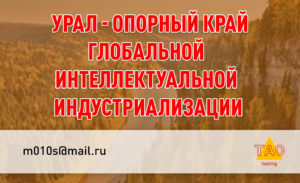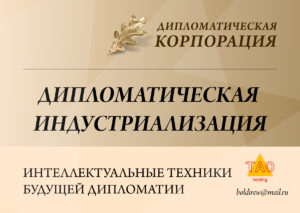МЕЖДУ КОРНЯМИ: УЧ И УЩ

Терминологический потенциал русского языка в отношении понятий находит свою справедливую оценку как более смыслоёмкий и точный. И нам эту точность нужно отразить.
Учение, ученость, наука – знают свой корень и ключевой смысл вокруг понятия навык.
Но корень настолько глубок и велик, что в отличие от евро-немецкого линейного, дает амбивалентную вариативность, которая требует рассмотрения тоже, поскольку слово само предупреждает о злоупотреблении им же.
Слово навык предполагает многократное повторение знания на практике.
Но то же самое предполагает корневое вырождение смысла в однородных корнях ущ/ус.
Дело в том, что в словах наущать, науськивать названные корни тоже восходят к понятию навык. Но есть но, что и отразилось в боковом ответвлении корня.
Дело в том, что навык бывает разный, повторяемость тоже, и по происхождению они разные. Наущение и науськивание безусловно похоже внешне, но категорически отличаются по смыслам: это формирование линейно-негативного навыка для скверного действия. То есть сам процесс говорит о цели – она всегда плохая. Наущение всегда имеет криминальный оценочный оттенок.
И это подчёркивает принципиальное различие, которое было определено еще в старые времена: отличие обучения и науськивания, несмотря на то, что корень однородный!
В чем же это отличие?
Обучения – дача знания и навыка для созидания. Это говорит о том, что наука должна быть внесена внутрь сознания и тела человека, она должна отличаться основательностью, доказательностью и главное – воспроизводимостью и автогенерацией – и проч. А науськивание – всегда линейно, разово, одномоментно и утилитарно.
То есть однородность подчёркивает и различие.
Это нам необходимо для того, чтобы выяснить, в каком языке честно представлена рефлексия слова, которая не скрывает издержек и растождествляется с ним, несмотря на однородность. Это значит понятия науки, учения, обучения имеют внутренние риски скатиться в негативно-линейную профанацию: когда всё похоже, но ни науки, ни учения, ни обучения нет. А если есть профанация учения – то и ученики становятся профанаторами.
Русская версия корня и слова об этой угрозе честно вещают, тогда как евро-немецкая исключают, полагая науку неуязвимой и вечно-высокой, не замечая околонаучных профанаций.
Профанация – проблема. Если русская форма науки, требующая практического применения знания в виде навыка, полагает синтез, то евро-немецкая версия может отделить науку и практику – всегда не пользу практики: это не наука плоха, а у вас руки крюки. Как в обвинении русского народа, который на практике не довел идеалы Маркса до конца: это не марксизм плох, это у русских руки крюки и голова плоская.
Идеализация науки всегда профанна. Но для науськивания она как раз нужна. Поэтому – заметим – евро-немецкая так называемая классическая философия – выведена за пределы критики, а тем более сокрушения. Толковать можно – сомневаться в абсолютности нельзя. Именно поэтому настала пора сокрушения евро-немецкой профанации: из-за профанов Кантов не хочет трава зеленеть.
Различение корней УЧ И УЩ подчеркивает необходимость в науке делать ставки на русскую терминологическую традицию, несмотря на то, что и евро-немецкая исходит от неё же: ключевое понятие Wissen – Знать, познание – от русского весть, вещать.
Как видим, явный сдвиг к культовому наущению, чем к науке. Установка вещать, а не изучать фактически делает евро-немецкую псевдоклассику агрессивной профанацией, не более того. То есть в русской версии мы ближе к науке и учению, чем в науськивающей евро-немецкой версии. А значит русские корни и понятие становятся основой терминного ряда: наука, учение, обучение и проч.